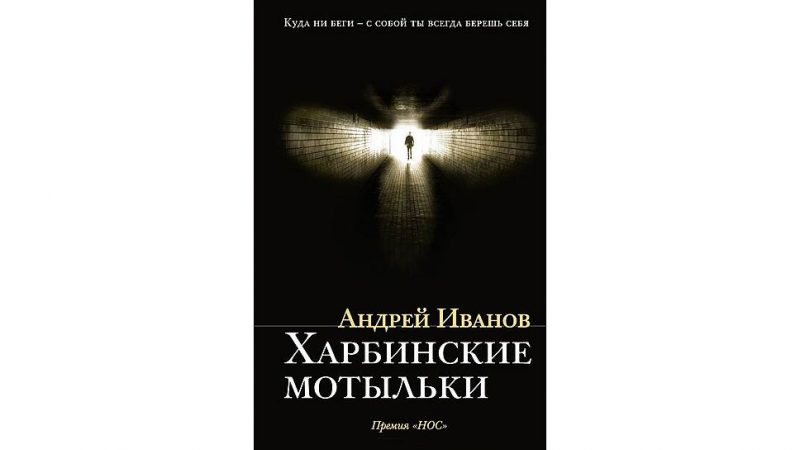
Я взял в руки эту книгу современного автора с предварительной мыслью узнать что-то интересное о россиянах, проживавших в далеком китайском Харбине в эпоху первой русской эмиграции. Но название оказалось обманчивым, знакомство с романом показало, что литературное произведение вовсе не об этом.
Да и географическое пространство, становящееся местом действия, как выяснилось, совсем другое – предвоенная Эстония, в которой по воле судьбы обретаются русские эмигранты.
«Харбинские мотыльки» − это скорее образ-маркер, помогающий понять драму людей, затянутых между шестеренками безжалостной машины идеологических противостояний и социальных конфликтов. Время – промежуток между двумя мировыми войнами. Пространство тоже промежуточное, маргинальное, окраина большой географической сферы русского эмигрантского рассеяния. Окраина, потому что есть признанные центры эмигрантской жизни россиян – «русский Берлин», «русский Париж», Прага, Белград. Об этих местах уже немало написано – и в мемуаристике, и в прозе, и в научных историко-культурных сочинениях, но остались еще некоторые неосвоенные топосы со своими хитросплетениями судеб, сложных человеческих отношений, со своим горизонтом надежд и ожиданий.
Герои романа живут старыми понятиями, а потому столица Эстонии для них остается прежним Ревелем, напоминанием об Эстляндской губернии, входившей в состав Российской империи. Это, скорее, попытка остановить время, некая игра с судьбой.
Романные персонажи не столько просто живут, сколько играют в ими же самими придуманные роли. Их бытие напоминает призрачный театр теней. Все зыбко, как существование мотылька. Наверное, неслучайно автором избрана такая профессия для центрального героя романа Бориса Реброва, как художественная фотография. Создание снимка в данном случае – попытка продлить мгновение, закрепить событие, предметный ряд, человеческое лицо в ткани переменчивой исторической жизни. Изображенные романистом люди, оказавшиеся на историческом перепутье, на «семи ветрах» эпохальных потрясений, не хотят пропасть, нелепо сгинуть в безвестности. И художественная фотография, являющаяся актом искусства, законно претендует на высокую степень обобщения, на известную символизацию. Миг хочет стать частицей осмысленной вечности.
В книге изображается тягостная череда невзгод, преследующих героев: поиск (порой, увы, тщетный!) работы, вынужденное бездомье, скитальчество, утрата привычных социальных связей. Воспоминания о былой жизни выполняют функцию психологической компенсации, столь необходимой человеку в трудной ситуации.
В романе отображается эмоциональная атмосфера, царящая в русской общине эстонского города. Эмигранты пытаются создать какие-то организации, задумываются об актах сопротивления большевистскому режиму, но часто такие мечты и планы приобретают характер безумных, отчаянных авантюр, как, например, в случае с офицером Тополевым. «Подпитываясь кокаином и шампанским, Тополев бегал по Ревелю, посещал важных лиц города, вступал в различные общества». Главный мотив всех этих суетных действий вполне корыстный – надо «думать, где достать деньги. <…> Я уверен, что кто-то где-то сидит на мягких подушках и перебирает драгоценности, а мы с вами подачками перебиваемся».
Деятельность Тополева, привыкшего к роскошной жизни, носит смехотворно-симулятивный характер. Задумываясь о плане «бомбардировки Петербурга» (!), офицер вполне в духе Остапа Бендера раскрывает свои истинные карты: «Господи, поручик, главное – получить деньги на осуществление, а так как масштаб задуманного до дерзости фееричен, думаю, никто не станет с нас строго спрашивать, если что-нибудь где-нибудь пойдет не так. Нюхайте и запоминайте! Нас финансируют за веру и идеи, а не за осуществление задуманного».
Романное объективированное повествование, в котором действуют знакомые и незнакомые Борису люди, перемежается субъективными дневниковыми записями центрального героя. Эти записи порой наполнены пронзительной болью перенесенных утрат: «Открыл тетрадь, а там все они – мама, папа, Танюша – еще живые. Выдрал страницы и сжег. Вот как щемит. Как это неожиданно – переехать, и найти эту тетрадь на дне саквояжа, и все разом получить! Лучше б не открывал сегодня. Совсем никогда».
У Бориса не налаживаются отношения с окружающим его ревельским пространством: «Стараюсь больше выходить. Город не открывается мне. Несколько раз доходил по трамвайным путям до конца. Обрывались, и все. Один раз видел, как трамвай поворачивали: рычаг и круглая платформа вращалась вместе с трамваем и кондуктором (вот если б можно было время так же развернуть и пустить в обратном направлении!)».
Перед читателем романа проходит длинная галерея лиц. В разговорах мелькают имена известных культурных деятелей, живущих в местах русского эмигрантского рассеяния. Диаспора пытается демонстрировать свою духовную неделимость, внутренние невидимые скрепы. Воспоминания сродни череде случайных кинокадров: «Ум окунался в прошлое, проваливался в него, как в колодец, − в такие часы Борис видел самое мрачное. Заметенный григорьевский Петроград, весь в гололедице; мертвые трамваи, в которых играли дети; застывшие во льдах Невы баржи; испуг в глазах заведующего фермой Галошина, когда вошел белый офицер и с ним два солдата с винтовками; китайцы, повешенные на дубках под Гатчиной; мутные списки казненных на доске расписания поездов на станции Волосово».
Калейдоскопичен и образ города: съемные квартиры, стылые улицы, рестораны, варьете, редакции эмигрантских изданий, уголки старого города, древние башни. В повествовании доминирует мотив мимолетного и случайного. Харбинские мотыльки, случайно занесенные с багажом скитальцев с просторов северного Китая на берега Балтики. Вереницы военных, журналистов, писателей, художников, по прихоти исторической случайности вовлеченных в поток неожиданно изменившегося времени. Случайные гонорары, приработки, случайные связи, эфемерные знакомства, неверные дружества, нетвердые мечты-иллюзии, тягостные болезни, тяжелые сны, наконец, неотвратимо подступающая смертная тоска.
Сознание героев становится подобным чуткому компасу: оно восприимчиво к малейшим признакам грядущих бурь. А тут уже речь не о робких предвестиях, но о страшных в своей очевидности метаморфозах, ведь ситуация кардинально меняется, когда Прибалтика снова входит в состав Советского Союза.
«Жара полыхнула грозой. Все стало ясно. Выхода из этого тупика нет. К Соловьевым зачастили гости. Все в панике. Садились за чай, но тот стал горячей и не желал питься. Перебирали одни и те же события. Демонстрации с красными флагами. Митинг на Тоомпеа. На ратуше повесили портрет Сталина». В разговорах начинает доминировать один и тот же тревожный мотив – «Теперь нами займется НКВД».
Именно это ощущение опасности диктует Сергею Реброву и его знакомым в финале романа покинуть Эстонию и тайно переправиться в Швецию. Эмигранты, ставшие легкими мотыльками-пилигримами, вновь подчиняются силе безжалостных воздушных потоков, уносящих их в новые пространства, к новым берегам, к новым испытаниям и неясной будущности.
«Между молотом и наковальней» − так можно охарактеризовать ситуацию, в которой оказались русские эмигранты, равно не принимавшие российский большевизм и немецкий фашизм. Тем более те, кто оказался на территории, сопредельной обеим новым империям, территории, ставшей простой разменной картой в дипломатических спорах и договоренностях больших держав. Для обеих систем эти люди, даже совсем далекие от политики, оказывались персонами весьма сомнительными и враждебными. А ведь многие потом, когда грянет 1941-й год, внутренне эмоционально будут сочувствовать воюющей с гитлеризмом России (в большинстве случаев так и было с российскими эмигрантами).
Советская литература по понятным идеологическим соображениям этой весьма болезненной темы не касалась. Она не могла подняться над сложившейся системой идейно-политических оппозиций и посмотреть на историческую ситуацию в бытовом ракурсе, через призму сознания обычного человека, ставшего утлой щепкой в водовороте бушующих волн исторического бытия. Потому, думается, будет очевидным сегодняшний читательский интерес к роману Андрея Иванова, в котором передан реальный спектр тревожных умонастроений тех русских эмигрантов, кто проживал в довоенной Прибалтике.
Иванов А. Харбинские мотыльки. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2014.
Сергей Голубков
Доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Самарского университета.
Опубликовано в издании «Культура. Свежая газета»,
№ 15-16 (103-104) за 2016 год (сентябрь)
