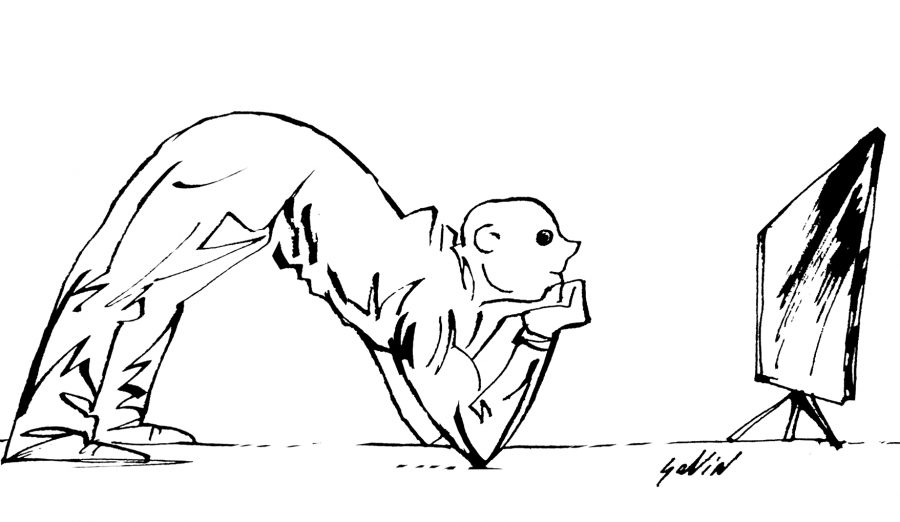
Конец календарного года в среде кинокритиков традиционно завершается чередой списков лучших фильмов.
Все реже они обрушиваются на читателя в виде подробного и проясняющего комментария и все чаще — в форме голых имен, названий и лихо выстроенных иерархий.
Подобная предпраздничная забава при первом приближении представляется безобидной, призванной скорее несколько сориентировать заинтересованного читателя-зрителя в том изобилии, которое ежегодно предлагает индустрия кино. Однако при внимательном изучении подобных списков подкрадывается вопрос, ставящий под сомнение не саму идею подведения итогов года, а тот формат и его специфическую логику (если таковая вообще прослеживается), которая их формирует.
Плюрализм мнений, сопровождающий сферу художественной критики как ангел-хранитель, подчас оказывается специфическим алиби для безосновательных суждений. Слова восхищения, высказанные одновременно и последовательно в адрес голливудской продукции, утонченного упражнения на территории авторского кино и (условно) нового фильма Годара, давно стали общим местом.
А любое критическое вопрошание «как же такое возможно?», как правило, отметается в силу обвинений в элитизме, интеллектуализме, эстетизме и всенепременно снобизме. В подобных условиях сама по себе позиция сурового критика и скептика все чаще воспринимается как некая форма ресентимента, проявляемая со стороны того, кто якобы оказался за бортом праздника жизни большой кинотусовки, обычно скрепленной дружескими или корпоративными связями и интересами.
В результате фигура критика все больше походит на придворного лакея или представителя по связям с общественностью, призванного налаживать контакт продюсеров и режиссеров с аудиторией.
Защитная поза всеядных кинокритиков лишь для проформы облачается в одежды демократизма и искаженно понятого постмодернизма, якобы гарантирующих отказ от жестких иерархий и позволяющих смешение любых форм и форматов, оценок и суждений. Однако за подобным демократизмом обнаруживается фигура заинтересованного и уязвимого персонажа, который, словно между двух огней, вынужден лавировать между двумя заказчиками: производители кино ждут благосклонности и понимания своего продукта, а его потребители – доходчивости и вкусового расположения по отношению к своим запросам.
Позиция любящих кино всей душой народных кинокритиков оказывается более прочной и угодной, нежели противоположная. Но при жесткости критической оценки из пространства письма про кино постепенно уходит и обоснованность высказанных суждений. Все больше дает о себе знать торжество субъективизма, за которым все меньше можно обнаружить рациональные основания, а все больше дает о себе знать паразитирование на символическом капитале известных (в узких кругах) имен.
Одним из последствий сложившейся ситуации оказывается позитивный консенсус вокруг кинематографических работ, действительно не лишенных некоторого очарования и профессионализма, но на деле представляющих собой торжество реакции и идущей с ней рука об руку вульгарности.
Критическая слепота опасна не для (условно) плохого массового кино: там, где фильм целиком и полностью определяется как рыночный продукт и оценивается с позиций размера бюджета и кассовых сборов, довольно странно оперировать чистыми эстетическими суждениями. Куда опаснее оказывается немота критики в случае работ, претендующих на сильное авторское высказывание и провоцирующих ассоциации с великими именами из большой истории кино.
***
В 2018 году эта ситуация особенно бросается в глаза на примере критической рецепции двух картин: «Счастливый Лазарь» итальянки Аличе Рорвахер и «Холодная война» поляка Павла Павликовского. В обоих случаях речь идет об именах, уже зарекомендовавших себя в фестивальном кино последних лет. У обоих фильмов есть свои хулители, но общий фон реакции скорее положительный.

Подозрение и сомнения вызывает не сама по себе оценка этих работ: в конце концов, со времен третьей кантовской критики эстетическое суждение обнаруживает себя в ситуации парадокса в модусе о вкусах не спорят, но именно о них и ведутся все споры. Поэтому нет ничего самого по себе плохого в том, что кому-то нравятся определенные фильмы. Проблема заключается в содержательной реакции на эти работы, которая демонстрирует неспособность критиков соотнести фильмы с условиями современности, которая их и порождает.
И «Счастливый Лазарь», и «Холодная война» помещены критикой в своего рода пробирку для чистого эстетического суждения, призванного извлечь художественные достоинства и порождаемые аффекты вне связей с иными контекстами – политического, экономического или социального толка.
Особенно к этому располагает картина Рорвахер, уже по своей структуре заигрывающая с идеей гомогенного и пустого времени истории. Сюжет предлагает зрителю сначала ощутить себя в условиях пасторального мира итальянской деревни и аристократических форм иерархий (сообщество крестьян, трудящихся на баронессу), а затем в силу взмаха волшебной палочки монтажера переносит на улицы современной Италии, где царят законы джунглей капитализма.
Главный герой, Лазарь, оказывается не то святым, не то юродивым, самим фактом своего присутствия проявляющим несправедливость обоих способов миропорядка. Его персонаж – своего рода этический катализатор, задача которого – вызывать брожение этических смесей, провоцируя стыд и вину перед ликом невинной жертвы жестоких законов общества.

Следует понимать, что морализаторство Рорвахер структурно аналогично новой «охоте на ведьм» в американской киноиндустрии, выточенной по образцу старого-нового пуританизма. Обращаясь к проблеме несправедливого общественного устройства, к явным и скрытым формам насилия, облачая все это в изящную художественную форму, Рорвахер работает с нечистой совестью зрителя, загоняя его в этическую ловушку: инвектива «ты сам во всем виноват» не позволяет увидеть ситуацию за рамками наивного психологизма.
Дико читать суждения критиков, проводящих сравнения «Счастливого Лазаря» с работами Пьера Паоло Пазолини и Эрманно Ольми. Два итальянских классика действительно часто работали с фигурами деревенских жителей, исследуя катастрофическую реакцию адептов до/раннекапиталистического уклада на модернизацию, но они не позволяли себе занимать позицию морализатора и психолога, они работали со структурой чувственности, поддерживающей такой мир, но не с реакциями на него.
«Дерево для башмаков» Ольми, с которым особенно часто проводят параллели в связи с фильмом Рорвахер, остается на позиции уважительного наблюдения за логикой насилия уклада деревенской жизни, оставляя за зрителем работу мысли или, по меньшей мере, эмоциональную озадаченность.
«Счастливый Лазарь» же призывает зрителя не думать, а чувствовать, поддаться эмоциональной слабости. То есть этот фильм работает как еще один аппарат индустрии по производству аффектов, призванных приводить не к действию или прояснению, но к оцепенению и чувственному ступору в состоянии созерцательной беспомощности.
***
Несколько иначе складывается ситуация с фильмом Павликовского. Режиссер предлагает историю любви в декорациях послевоенной Польши и политического противостояния советского и западного блоков. Казалось бы, историческая составляющая здесь вторична по отношению к чувству мужчины и женщины, вынужденных преодолевать препятствия якобы внешнего толка: любовь выносится Павликовским за скобки мира, в котором живут его герои, сохраняя непроницаемость оппозиции «личное и публичное (политическое)». Единственным последовательным способом общения с таким миром оказывается уход из него.
Эскапизм такой позиции куда опаснее прямолинейного пропагандизма. В условиях пропаганды зритель как минимум оказывается в ситуации принуждения к пусть и ложному, но выбору позиции. Тогда как утонченный эстетизм и прямолинейный психологизм, которые избирает Павликовский, работают как более хитрая модель введения в заблуждение: единственный выбор, который стоит в жизни человека, – выбор своего партнера, а по отношению к окружающей действительности ему не остается ничего иного, кроме пассивной позиции принятия той «как есть». А политический скептицизм Павликовского остается прокапиталистическим, так как само представление о любви у него остается в пределах буржуазной модели, лишь для вычурности облаченной в романтические одеяния. То, как (нео)романтизм прекрасно вписывается в капиталистические реалии, показали еще в начале ХХ века столь разные мыслители, как Карл Шмитт и Георг Лукач.
Таким образом, эстетически привлекательные (картинка обоих фильмов предельно радует глаз) и чувственно вовлекающие (про обе работы можно смело сказать, что они построены по принципу возгонки аффектов) фильмы «Счастливый Лазарь» и «Холодная война» оказываются образцовой формой высокоодухотворенной (нео)реакции, которая, возможно, не говорит со зрителем на языке «традиционных ценностей» или «апологии патриотизма», но по сути продолжает ту же самую логику. Зритель, не мысли, прочнее вцепись в свое зрительское кресло и почувствуй возможность прикосновения к чему-то подлинному и прекрасному, будь то истинная любовь или истинная святость! Таков призыв, который находит благосклонность не только у зрителя, но и у критика, который, казалось бы, должен был бы помочь разобраться во всех этих чувственных манипуляциях и махинациях.
***
Вышедшая в конце прошлого года на русском языке классическая работа американского теоретика Фредрика Джеймисона «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» позволяет уточнить диагноз, проявляющийся в связи с казусом, рассмотренным на примере фильмов Рорвахер и Павликовского. (Пост)постмодернистская перспектива, подробно и скрупулезно описанная Джеймисоном, утверждает неизбежность для всех и каждого того, что «каждая позиция относительно постмодернизма в культуре является в то же самое время, причем по необходимости, явной или неявной политической позицией в отношении природы современного мультинационального капитализма».
В российских реалиях данный неусвоенный урок постмодернизма заключается в том, что у многих сохраняется иллюзия алиби невключенности в необходимость политического самоопределения и наивной веры в возможность чистоты эмоции и художественной формы. И лучшей сферой для такого эскапизма по-прежнему остаются мораль и искусство, помещенные в рамку фантазий о чистоте таких форм, как вера, любовь и надежда.
Казалось бы, дают о себе знать народный запрос на плюрализм и требование права выбора в условиях общества, устроенного по модели рынка (пусть даже если это будет право не совершать (политического) выбора). Однако, как опять же убедительно доказал Джеймисон, подобный «плюрализм является идеологией групп, комплексом фантазматических репрезентаций, на котором сходятся три фундаментальных псевдопонятия – демократия, медиа и рынок».
А авторское кино и его пособники в лице кинокритиков пытаются лишь надлежащим образом обеспечить бесперебойную работу этого механизма.
