
Памяти Юрия Васильевича Храмова. Большое интервью к юбилею архитектора. 2014 год.
Храмы Храмова — уже традиционное название для статей о Юрии Храмове, выдающемся нашем земляке и современнике. Архитекторе, который создал несколько важнейших для Самары зданий. Создал уникальный облик города. Но сам Храмов считает, что сделал мало — 90% осталось в проектах, на бумаге.
Совсем недавно архитектор отметил свой 80-летний юбилей. А завтра, 31 октября, в 17-00 в левом крыле ДК «Звезда» — первом большом проекте Юрия Храмова — откроется юбилейная выставка. На которую надо идти обязательно, если вы не равнодушны к этому городу и его творцам.
Я встретился с Юрием Храмовым в новом кафе «Тыква», которое спроектировал его сын — архитектор Дмитрий Храмов. И, несмотря на праздничную обстановку и яркий интерьер, разговор наш далеко не всегда был веселым и приятным.
— Хочу еще раз поздравить вас с юбилеем. Вы прошли огромный творческий путь, создали несколько символов нашего города. А что вы сами рассматриваете, как Главный профессиональный успех?
— В принципе, у меня построенных объектов немного. Очень много проектов, больших, малых, удачных, менее удачных. Но первым моим сооружением стал дворец культуры «Звезда» завода имени Масленникова. Там раньше стоял офицерский клуб. Потом столовая. Это был 1968 год, и вначале я получил заказ — заменить перекрытия. Ну а уж вылилось это в «Звезду»…
— А как этот проект прошел такой путь? Ведь для той эпохи ДК «Звезда» — новаторское здание.
— Тогда, в конце шестидесятых — начале семидесятых господствовал такой стиль, как модернизм. Что в переводе с французского означает «современная архитектура». Ну и, собственно, мы со студенческих времен были заражены этим стилем. Преклонялись перед этим стилем. Ну и работали в этом стиле. И мне удалось убедить руководство завода не останавливаться на ремонте, а сделать Дом культуры. И началась работа. Я проходил все инстанции — горисполком мне утвердил этот проект, руководству завода это понравилось и началась стройка. И мы очень быстро-быстро построили это здание. Где-то в начале 1971 года ДК вступил в строй.
— Трудно тогда было пробивать проект, проходить инстанции?
— Вы знаете, для меня это был первый объект и, конечно, было трудно. Труднее всего было решится на такой объект после того, как я только-только начал свою деятельность в Самаре. Я закончил Московский Архитектурный институт, и уже в 1960 году был в Самаре. И до этого проекта мы занимались только освоением новых территорий — была насущная задача — переселение из ветхого фонда, строились такие панельные пятиэтажные дома, освоили все свободные территории за городом, но эта работа была неинтересной для любого архитектора. Это была привязка типовых домов.

— Вы их просто «сажали» на какие-то площадки конкретные?
— Да, и там была работа такого градостроительного плана — благоустройство, размещение детских садов и школ.
— А это какие были районы?
— Весь северо-восточный район, где-то от Полевой и до Алма-Атинской. Если по Московскому шоссе, то весь район справа от Волги, и Приволжский район. Мы занимались (конечно, не я один, а весь институт «Горпроект») только этой работой. Официально по всему Союзу тогда было запрещено индивидуальное проектирование, только привязка типовых проектов. Потому что в Москве работали головные научно-исследовательские институты, так называемые ЦНИИ, по всем направлениям архитектуры — градостроительство, жилье, школы, детские сады, спортивные сооружения и так далее.
— То есть, они на всю страну разрабатывали?
— Да, на весь Советский Союз они разрабатывали и нам готовые проекты присылали.
— А здесь «Горпроект» занимался только «привязкой»?
— Только привязкой. Любых зданий.
— То есть, пробить собственный проект — это практически революция была?
— Да. Не от меня, конечно, это зависело, но пришло такое время, когда нам разрешили проектировать индивидуальные жилые дома до девяти этажей. Раньше выше пяти не имели права даже проектировать. Все проекты были панельных пятиэтажных домов, потому что их можно было быстро строить. И, в принципе, это было правильно. Решалась общесоюзная задача — создать условия для жителей, выселить людей из бараков, хотя бы в эти мини-благоустроенные квартиры, но с удобствами, с отоплением. Ну и, в принципе, эта задача была решена. А потом пришло время — конец шестидесятых, начало семидесятых годов, когда нам разрешили проектировать. Местным институтам. А у нас было два института — «Гражданпроект» и «Горпроект». «Гражданпроект» занимался проектированием на областных территориях, а мы — городом. Был единый заказчик у нас — Горисполком, и Облисполком — по области. В институте было несколько мастерских, тогда работы было очень много, работали быстро.
— «Звезда» по стилю — модернизм, как вы сами сказали. А откуда вы в СССР знали про этот модернизм?
— Мы знали всё про это. Нас учили в институте. Нас учили лучшие профессора.
— То есть, никакой закрытости информационной не было? Знали, как строят в Европе, в Америке?
— Мы, в основном, неплохо ориентировались. И очень жадно изучали опыт проектирования других стран. Знали ведущих архитекторов по всему миру, знали над чем они работают. Ну, и мы как-то сами учились. Оторванности не было, просто не было возможности реализовать какие-то идеи, какие-то направления в архитектуре. Мы были недостаточно богаты для этого. Но я получил такую возможность. Сделал предложение по «Звезде»…
— А его так прямо сразу и приняли? Или сразу начались переделки, разговоры, что надо учитывать мнение заказчика…
— Не-не-не. Тут у меня не было трудностей. Тут я очень просто и легко все прошел, не говоря о других объектах. И стадию согласования, и стадию экспертиз. И потом, тогда в Москве существовали целевые проектные институты, я, конечно, очень часто ездил в Москву. У нас без разрешения Госстроя России ни одно здание не проектировалось и не строилось. В Москве получал резолюции на проектные решения, где-то переделывал, опять вез показывать. Когда я получал «добро» в Госстрое, в результате всех этих поездок у меня сложились очень хорошие отношения с руководителем Госстроя, с архитекторами, которые курировали тогда город Куйбышев, и мне было нетрудно с ними общаться и получать консультации и решения. Все объекты шли через Москву, через Госстрой, через правительство.
— И вы за три года прошли весь путь — от первого наброска до готового здания?
— Да-да-да.
— А что было после «Звезды»?
— Где-то в 1976 году я получил заказ на восстановление здания Филармонии. Это был второй большой проект. Ну, а в промежутках — так, занимался небольшими заказами, работы было много. К тому времени Филармонию уже официально закрыли, она пришла в негодность. Там были деревянные перекрытия, даже фундамента не было. Как стена шла и на песочном грунте заканчивалась. Хорошо хоть, что грунт был подходящий. Но не было нормального фундамента, то есть Филармония была официально признана ветхой и закрылась. Пришло время, и Горисполком заказывает институту восстановление этого здания. Ну, а что значит восстановление? Значит, ее надо снести. Она была непригодна. Там был маленький зал циркового типа, сцены не было, была арена цирка небольшая, и почти не было подсобных помещений для артистов, не было фойе нормального… Ну, и я сделал предложение. По тем временам довольно смелое.
— И масштабное. По сравнению с тем, что было.
— Я отказался полностью от восстановления этого здания и только сохранил на фасадах детали, то есть атрибутику. Кровлю с богатым парапетом, вот эту центральную фигуру Эраты и Апполона, все вот эти маски. В общем, весь фасадный декор я сохранил и разместил его в тех местах, где он и раньше был. И по облику центрального фасада я построил всё здание. Такого симметричного вида. Повысил этажность до четырех, ну и набрался смелости отодвинуть здание от угла Фрунзе и Льва Толстого, чтобы создать хотя бы накопительную площадку для зрителей. Потому что зал у меня получался на тысячу мест, фойе просторное. А для сбора зрителей всегда нужно место, площадь. А он была по красной линии, и там сразу шел тротуар. То есть эти улицы были брандмауэрной застройки, здание к зданию, впритык. Ну и пришлось доказывать, что это здание не рядовое.
— И что его не надо «прислонять»…
— Да, и оно получило самостоятельную площадку, отодвинувшись от угла.
— В Филармонии очень смело решен зал — такая раковина или волна, откуда появилась эта концепция? Вы же вообще отошли от модерна…
— Да-да-да. Здесь я уже ориентировался на свои пристрастия в стилях и сделал зал на свой вкус.

«Я себе внушил — создать настроение такое… Ну, город ведь у нас на великой русской реке, отсюда ассоциация с волной, с такими мягкими обтекаемыми формами, и я стремился передать в этом зале ощущение места»
— Постмодернизм только-только в Европе-Америке начинался. А вы в Куйбышеве, даже не в Самаре еще…
— (смеется) Да-да. Я не стал говорить, но это был настоящий постмодернизм.
— Вы пришли к этому интуитивно? Ведь не было, наверное, такого решения, что вот, давайте, постмодернизм строить?
— Нет, конечно.
— И эту модель постмодерна вы в Куйбышеве собрали сами, получается?!
— Да, так получается. Но это было внутреннее ощущение, а не знание. И слова такого еще не было, и это не совсем постмодерн, потому что у этого здания стиль более лаконичный. Без разнообразных каких-то решений. Постмодернизм все-таки должен восприниматься за счет богатства своих решений.
— Просто это наш локальный вариант постмодернизма, не тот, что в Европе или Америке. И я с детства мимо ходил, любовался, но только когда подрос, понял, что, судя по времени постройки, это здание было очень современным и необычным.
— Ну, в Самаре мало таких построек. Тут практически нет ни модернизма, ни постмодернизма. Проектировали мы это здание долго. Пять лет. Строили семь лет. То есть с 1976 года. А открыта она была в 1988 году. Какие там были сложности? Прежде всего, морального плана. Я задумал в вестибюле поставить (это, конечно, уже детали интерьера, но, все равно, для меня они значимы) статую Федора Ивановича. Шаляпина. И даже был проект готов, но тут кто-то узнал, написал анонимку, которую передали нашему директору. Директор меня вызывает и говорит: «Не смей, запрещено!»
— Директор «Горпроекта»? А почему? Буржуазное искусство, что ли?
— В анонимке было отмечено всё: что этот человек не любил советскую власть, и что белоэмигрант…
— А кто написал?
— Не расписались.
— Не было никаких догадок? Завистников же видно.
— У меня не было даже малейшего желания его вычислять. Ну написал и написал. Подписано было: «Читатель». А уж что это за читатель — никто не знал. Просто получили — отреагировали. Вот таким образом. И мне не разрешили заниматься этим делом. Ну, а забегая вперед, расскажу, что сейчас в Филармонии принято решение вернутся к этой теме, и было уже совещание, где пошли в ход мои первые разработки. Мы их сделали вместе с Димой, и на одном из торцов здания все-таки установят мемориальную доску с бюстом Шаляпина, и высадят рядом дуб — потомок того дуба, который посадил в свое время Шаляпин, будучи в Самаре, когда давал здесь первый концерт в Филармонии. И после концерта в память об этом он посадил дуб. И со временем, когда окружение на Льва Толстого стало застраиваться, дуб спилили. Но несколько саженцев все-таки сохранилось. До сих пор. И вот месяц назад было принято решение высадить этот саженец с торца, что выходит на Фрунзе. Ну и после этого будет принято решение о присвоении Филармонии имени Шаляпина. И она приобретает как бы уже другой статус. Вот такая долгая история с Шаляпиным.
— Фойе Филармонии до сих пор сильно впечатляет, прежде всего, глобальностью и целостностью замысла, прекрасной реализацией. Уникальное здание!
— Да. Объем ничем не разгорожен. Здание просторное, многоуровневое. Галереи, подсветка лестниц, ну и люстры. Ради них пришлось много поездить. В Гусь-Хрустальном выбивали партию хрусталя, и мне пришлось самому сделать проект каждой люстры, а потом и сделать эталоны, чтобы по ним мастера могли дальше собирать. Работа была очень непростая. Мне пришлось там и дневать, и ночевать. Было подключено около 14 самарских заводов, включая военные. И там мы размещали заказы на внутреннее убранство. Кто-то бронзовые ручки отливал, таблички, все элементы, детали, всё-всё-всё.
— То есть, все интерьеры здания были целиком созданы в нашем городе?!
— Да. В Самаре тогда можно было сделать все что угодно. Всё умели делать. Кресла я разрабатывал сам, и мы сами их сделали. Вот гипс чтобы найти подходящий, мне пришлось объездить пол-страны. И найти карьеры, в котором гипс был совершенно белым, без примесей. В результате нам удалось использовать полированный гипс. И даже сейчас, вы можете заметить, там ни одной трещинки нет, как зеркало — белый-белый. И подвесные потолки, и потолки зала — всё сделано из гипса. И я нашел хорошего исполнителя. Это был армянин, Мкртчян Феликс. Он мне очень помог. Собственно его бригада всё и сделала.
— А они «шабашники» были?
— Да, шабашники. Еще мне повезло, что это здание очень плотно курировал горисполком. И он мне разрешал делать всё. Не глядя. Полная поддержка властей!
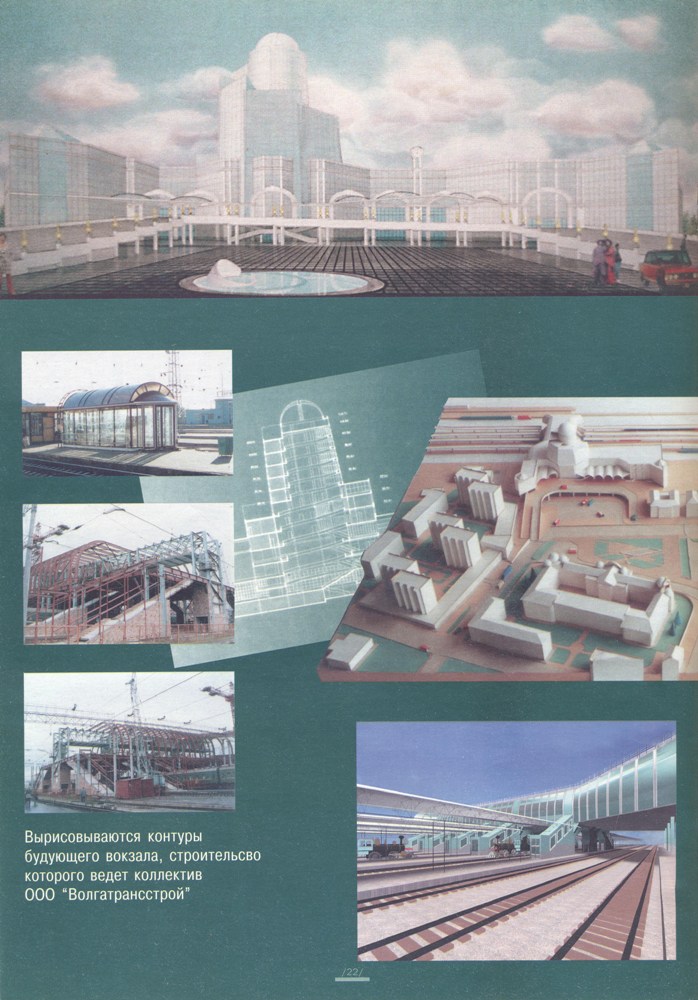
— Бесправие архитекторов сейчас вам хорошо известно. Вы же, в свое время, пользовались поддержкой, авторитетом, имели право голоса. С чем это было связано, с уровнем профессионализма?
— Во-первых, да. К нам относились, как к профессионалам, нам доверяли, мы работали добросовестно и все делали, как нужно. И нас поддерживали. На всех уровнях. И плюс институт, который тогда был на пике. В «Горпроекте» работало 520 человек, которые занимались только проектами в городе.
— Пятьсот человек проектировщиков?
— Да, он так образовался, когда еще шла работа по привязке. Были жесткие сроки, огромный объем работ, поэтому институт так разросся. Потом, постепенно-постепенно, в конце восьмидесятых, начале девяностых все институты распались. Не только в Самаре. Как Союз распался, так и все институты развалились. Институт существует и сейчас, но так, номинально. Заказов нет. Если в Самаре появляются какие-то объекты, то обязательно их перехватывают, либо иностранные проектировщики, либо, в крайнем случае, московские.
— Но я так понимаю, что сейчас такие проекты невозможно технически реализовать, потому что все разрушено.
— Да-да. Сейчас другое отношение к эстетике города, абсолютно другое.
— А в чем оно изменилось, по вашему?
— Изменилось оно в безразличии руководства города. Ведь раньше было всё очень здорово! Мы делали генеральный план города. Это был осмысленный проект, очень подробный. Вопросы транспортные, коммунальные, всё-всё решалось на высшем уровне, всё было распланировано, рассчитано, и любой клочок земли сажался на свое место, продуманное. И с генпланом тогда работал институт московский «Гипрогор». Он, кстати, по всему Союзу делал генпланы. «Гипрогор» сделал нам генплан города, и по этому генплану велась застройка. Осмысленная, нормальная, планомерная. А сейчас появилась фирма с деньгами, купила участок: я хочу ЭТО сделать. А здесь ЭТО нельзя. Ни по генплану, ни по смыслу здравому. Нельзя! Но делают, и никого не спрашивают. У нас был архитектурный совет. Он и сейчас формально существует, Но не считаются ни с советом, ни с Союзом архитекторов Заставляют подписывать эти проекты, и строят, что хотят.
«Карман есть? Деньги есть? Я хочу так и я делаю так. То есть город разваливается»
— Но, скорее всего, дальше будет только хуже.
— Дальше будет хуже. Тем более, что участков свободных становится все меньше, остается только старая часть города, а старая часть — это исторический центр. И вот здесь наступает беда. И кончится тем, что и старый город разрушат, и новый не построят. Потому что это будет не город, а просто бессмысленный набор зданий.
— Можно ли эту ситуацию хоть как-то решить?
— У нас есть органы, занимающиеся защитой памятников, и они из всех сил пытаются, но их никто не слушает.
— Вы считаете, что город, градостроительная ткань, она уничтожена?
— Она уничтожена, разрушена. Где-то, конечно, делаются нормальные здания. Где-то. Но в массе своей это просто безобразие.
— Это очень печально. У вас, наверное, есть некоторое разочарование…
— Конечно. Очень большое разочарование на фоне той ситуации, которая сложилась в девяностые годы. Началось сверху, и разваливается до самого низа, до основания.
— И все это еще очень недальновидно.
— Бездарно, недальновидно и глупо. Все это очень печально для таких растущих городов. Хотя Самара, Уфа, Челябинск, другие города-миллионники, они еще кое-что делают. А вот возьмите ситуацию по области — там вообще ничего нет. Хотя и Самара, как приволжский город, потеряла свое лицо. Город растворился среди других городских агломераций, все нивелировалось. Все замусорено.
— Можно ли это вычистить? Хотя бы в идеале? Или мы обречены, что нас все глубже будет затягивать это болото?
— Конечно. Не все так плохо. Правила какие-то есть. И какие-то здания появляются. Но я говорю об общем развитии города, городской агломерации как таковой. Конечно, она потеряло свое лицо, свою индивидуальность. Наш город — город приволжский. Что там осталось? Набережная сохранилась, но и она застраивается. Берег застраивается какими-то непривлекательными зданиями…
— Получается, что в принципе советская командно-административная система для города была предпочтительней?
— Предпочтительней. Они считались с нами, с градостроителями. Я это чувствовал. Они были заинтересованы в улучшении города. Они отвечали за город, их спрашивали за город в центре. Ну и, в конце концов, там были ребята такие эрудированные, умные, контактные. Мне с ними хорошо работалось. Мы знали общие задачи. А сейчас общих задач просто нет.
