
У Володи Липилина вышла книга. Которую можно купить на Озоне и в других онлайн-магазинах. Надо купить! Потому что нет ничего вкусней и слаще его прозы.
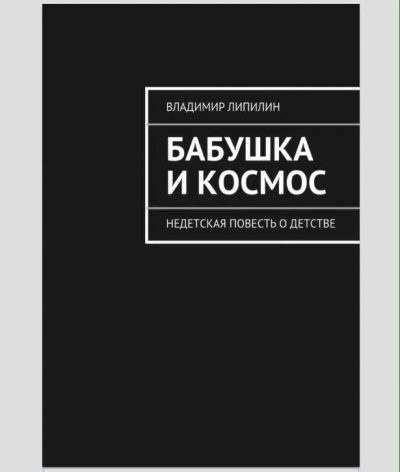
По нашей просьбе Владимир отобрал три отрывка из новой книги. Специально для читателей «Самкульта». Наслаждайтесь!
У озера
Первую после зимы ночь в деревне мы проводили всегда под небом. Такая традиция.
Дед Куторкин дивился постоянству:
— Ну, надо же. И по хрену мороз?
— Степаныч, тот случай, когда совершенно.
Бабушка, само собой, знала, что — да, история никогда и никого ничему не учит, хорошее забывается, а человек с годами становится, как правило, лишь паскуднее. Потому что, подверженный болезням и лени, гордыни и страстям, он все больше и больше скатывается в компромиссы. Не забываются для душ (тем более, детских) только вот такие весенние ночи на берегу реки или озера.
Иногда они даже определяют жизненный вектор движения.
Днем мы драили полы, устилали их цветными «верчанками», топили сразу и голландку, и печь.
И вот дом, изба начинали медленно оживать, потрескивать в углах и отдавать запахи. Слой за слоем.
Строению к тому времени было лет двести. Крепкий, с неразборчивым клеймом на бордовых кирпичах, дом все время подсовывал какие-то приветы из прошлого. То коробку, изнутри обитую синим бархатом, с пазами для перьевых ручек, то грамоту «Победителю скачек», выданную в 1912 прадеду в Москве. Мы найдем ее когда отвалится от промерзшей стены пласт обоев, а грамота — нет.
Бабушка велит мне зажечь, висящую в углу на цепочке, лампаду. Там, на полке, дешевые иконы в серебристой фольге. И только две на досках. На левой, ближней к окну, что-то явно не так. Образ представляет изображение Иисуса Христа, который держит лицом к зрителю раскрытую рукописную книгу. Раньше я лазил туда, пытался прочитать, но было «не по-нашему». А теперь страницы в той книге как будто заканчивались, иссякали.
Дед Куторкин пришел к нам с баранками, уселся и давай наливаться чаем.
Бабушка всегда предпочитала цедить из блюдца, сдувая с поверхности легкое дыханье.
Я сказал им о книге и все туда посмотрели, задрав головы, как на страшную птицу.
— А и кончится скоро, — прожевав, подтвердил дед, взял еще крендель, посмотрел на свет в дырочку, как будто там была линза. — Ничо удивительного. Кино к концу. Две тыщи лет Он дает нам дуракам шанс. А мы его с удовольствием профукиваем.
Бабушка закашлялась.
— Ты прям как Фарада.
Перекрестилась:
— Прости мою душу грешную.
— Не Фарада, а Фарадей. Но он тут ни при чем. И потом — я лучше. Во всяком случае, проворней на данный момент..
— Чеканутый ты. И Бога не боишься.
— Боюсь, — как-то по-детски, честно сказал Куторкин. — Хорохорюсь просто. Дуркую. Но я не один. Мир рушится, а мы выпендриваемся. Нервное это все.
К вечеру мы опять с рюкзаками. Хотя до уютной полянки в тополях под кодовым названием «где Федя зоотехник об бОшку агроному гитару разбил» всего —ничего.
Бабушка научила меня укладывать рюкзак так, чтобы можно было протопать с ним полпланеты. И не устать. Чтобы ничего не впивалось в бока и спину, а все нужное помещалось. С тех пор мешок на плечах — это сладкое такое волнение перед дорогой. Колебание: может, не ехать? И еще рюкзак — это как будто кто-то любимый обнял на пороге, когда ты уходил, перекрестил в спину.
К этому времени бабушка уже смоталась в соседнюю деревню за козой, а по дороге разругалась с ней, бестолочью, вдрызг. Коза строила из себя жертву произвола и потенциального клиента гринписа, всюду ходила за нами, оглашала окрестности так противненько, нудненько, что словила по сусалам и была заперта в хлев.
В тополях имелся стол, вкопанные скамейки. Мы разбили лагерь. Установили палатку, разнесли два костра. Дед Куторкин, засунутый в тулуп, принес в ведре уже чищенных окуней. И принялся варить уху.
Посередке стола керосиновая лампа, а у меня в кармане немного ржавый фонарик с квадратной большой батарейкой.
Они говорили о деревне, которой уже давно не было и больше не будет никогда. О бабушкиной свекрови, хитрой мелкопоместной дворянке, якобы закопавшей в подполе с приходом советской власти несколько кувшинов с золотом. Но свекровь ее (а для меня прабабка) была шита отнюдь не лыком, и, скорее всего, про подпол наврала, запутала. Несколько ушлых родственников тыкали мертвую землю вилами, а кто и оружейным штыком. Находили разбитые черепки и спрессованное прошедшее время. Затем перешли к бабушкиным мытарствам по Ленинградской области, где она была в войну санитаркой. Упомянули местного председателя Дарькина, который внешне ну вылитый был Маяковский, а в жизни оказался скотом. Во время той же войны он нарочно прострелили из дробовика себе ногу, и остался тут председателем над бабами. Изгалялся и куражился над ними
А потом все ели уху, отдуваясь от пара.
А потом земля пахла подшивками журналов «Сделай сам», отсыревших на чердаке.
И такая стояла тишина, которую в следующий раз дед Куторкин предполагал услышать разве только в гробу.
Еще немного пообщавшись, мы спустимся к самому озеру, стынью понесет от воды. Наша с дедом льдина будет чинно припаркована в кустах на другом берегу. Бабушка посветит, а я за веревку буду по очереди вытаскивать экраны или как они их звали телевизоры, такие сетки — метр на метр, палка снизу с железными болтами (вместо груза), палка сверху без всего (то поплавок). Удивленные караси бьются и трепыхаются в ячейках, некоторые даже чавкают. Руки мои дрожат, сердце колотится и пара штук (как водится, самых больших) выскакивают и, танцуя по мерзлым прошлогодним листьям, плюхаются обратно в талое озеро. Но досады нет. Есть ощущение зыбкого сна.
Где-то вдалеке небо прошьет метеор.
А к утру в варежки и шарфы туман укутает деревню. У заброшенной избы затрещат кусты бузины, и дед Куторкин подскочит, всполошится.
— Эй, не видал моих лошадей! — скажет громко, но, впрочем, осторожно.
Ему не ответят. Треск приблизится. Дед сунет руку во внутренний карман тулупа, будто ухватится за сердце, на самом же деле даст кому-то понять, что там у него не иначе как маузер или наган.
Но кому? Туман войлочный.
Движенье в кустах прекратится, а дед ломанется туда в обход.
— Майор, — закричит он, — слышь, майор, без моей команды не стрелять.
Я подпрыгну на скамейке, бабушка затушит лампу и улыбнется.
Будет слышно, как дед словно порвет грубую бумагу, это он рухнет в лужу, из которой морозец выкачал почти всю воду и превратил в лед. Минут через пять он вернется возбужденный, с ярым блеском в глазах:
— Лось, товарищи. Гад буду, лось.
И отхлебнет из алюминиевой кружки остывший чай.
— Я где-то читал, что любят они вот так на дым выходить. Папиросным не гнушаются также. Таким образом, ноздри от всяких паразитов прочищают. Пальцев-то нет, одни копыта, козявку не подцепишь.
В тот самый момент из тумана на нас вывалилось нечто. Нечто дышало тяжело. Сомнений не было: перед нами некое животное. Приглядевшись, мы узрели козу.
Бабушка смеялась, закатываясь тоненько. На голове у скотины был обыкновенный ящик, между реек которого сопел ее козий рот. Рейки сковали его движенье. Коза напоминала рыцаря в кованом шлемаке с опущенным забралом.
Видимо, когда мы ушли к озеру, она вырвалась из хлева через двор. По пути встретила стопку пустых ящиков, что пахли яблоком. Будучи существом нервным и любопытным, коза встала на задние ноги, как человек, решила поглядеть: не завалилось ли хоть одно в щель? Не завалилось. Когда возвращалась в естественную позу на четвереньки, верхний ящик предательски оделся ей на рога. Она психанула, разбежалась и впечатала мнимого врага в стену, попала между реек, которые и связали ей речевой аппарат. Затем пошла на голос, но сырость, туман. Так и угодила в кусты. Когда старик стал кричать не бабушкиным голосом, коза зашухерилась.
Дед Куторкин был малость смущен, что принял банальную козью морду за благородную лосиную.
Он крутил колесико в приемнике VEF. Коза, двигая, челюстями в разные стороны, надменно щурила глаза и пожирала из бабушкиных рук яйцо вареное.
И вдруг зазвучал гимн. Советский. Дед замер. Гимн нарастал. И тут я увидел весь прошлый день и бессонную ночь, от которой становишься пьяным, словно бы сверху. Ручьи, заполненные солнцем, человека с конем под уздцы, икону, дымящий костер, карасей, плывущих куда-то в ведре, разговоры, звезды, настоянный на травах и талой воде туман. Мурашки нестроевым шагом промаршировали от пяток до макушки. Я так шумно и глубоко всхлипнул-вздохнул, что бабушка оглянулась.
Коза, прожевав, тоже воодушевилась, вроде как подпевала гимну.
Голос ее дрожал.
Китешка
В детстве мне нравилось нюхать книжки.
Берешь такую, раскрываешь, но не до конца, и надо в нутро ее дохнуть… теплом, тем теплым воздухом, который извлекают изо рта вот так: ха-а-а-а (долго задерживая «а»). Как будто в трамвае на окошко, чтобы протаяла дырочка, а ты посмотрел: где ж я еду-то? Или, например, как будто чья-то мама с подружкой дышат на язык упрямого идиота. Говорили ему: морозные качели коварны, завлекут, поманят. А он усмехнулся и, только они зазевались, не поверил, не поверил. И теперь они такие с двух сторон «х-а-а-а» вперемежку с подзатыльниками.
Книг у меня было много. Чтобы не отвлекаться, я принес из чулана сразу охапку и брал их из стопки по очереди.
— Чё эт ты делаешь? — поинтересовалась бабушка.
— Да вот, книжки нюхаю, — заявил я.
Бабушка брякнула пустым ведром в крупинках комбикорма, отёрла фартуком руки, рядом угнездилась прямо на половик.
— А как надо-то?
— Ха-а-а-а.
— Тьфу, плесенью воняет, — захлопнула с отторжением одну.
— На вот эту.
— Ха-а-а-а. Хм. Вымытыми полами пахнет. Некрашеными. Ха-а-а. А эта картами игральными и чем-то нехорошим!
Книжки всегда были для бабушки вещью диковинной. Ну, вот допустим, если бы у вас дома лежала рабочая, а не учебная граната. Как бы вы к ней относились? Вот именно: нежно и почтенно. Вот так и бабушка к книгам — она знала, что это не просто набитый строчками и бумагой брикет. Там таится что-то странное, то, чего нет, а откроешь — существует. Бабушка к книжкам всегда с поклоном и уважением. В свое время не вышло поучиться в школе, с детьми тоже не удалось читать, так, с горем пополам нахваталась. По слогам. На молитвах. Дико стесняясь нас. И чаще шёпотом.
— Вот дед, он умел, — вспоминала. — Грамотный, учёный, че ж. Булгахтер. Говорливый, как будто задницу куриную съел.
Бабушка отчего-то считала, что именно эта часть куриного существа рождает в человеке ораторские способности. Если вдруг мы приводили на её антинаучные воззрения где-то вычитанные «весомые» доводы, она отмахивалась немного даже с обидой:
— Пускай, пускай. Глупая я. Чё с меня взять — старуха. Вас-то вон не переспоришь, говорить нынче все горазды, будто курину жопу съели. Ха-а-а-а.
— Есть кто живой? — спросил из сеней дед Куторкин, хотя слышал: бубним.
— Не сомневайся, — сказала бабушка, — хватай добро и драпай.
Че это вы тут делаете? — мягко, как кот дед подошел в шерстяных носках, надо мною наклонился.
— Книжки нюхаем, — ничуть не смутясь, сообщила бабушка. — Один дурак зачал, вторая подхватила. Иди и ты к нам, третьим будешь.
— Во дают. Весь прогрессивный мир давно на клей перешёл, а они — книжки, — он был в ударе. Причем отнюдь не поэтическом.
Утром племянник привёз металлоискатель. Научил. Говорит, у вас тут, поди, алюминий какой, цветмет, клады?
— Вот тоже, да? Нашёл поместье, — усмехался дед Куторкин. — Понаберут из деревень.
— Ну и вот. И целый день у меня в ушах: динь-динь-динь. Беру лопату, а там бляха… в смысле от ремня солдатского. Опять динь-динь-динь — ага, самовар, да с клеймами, 1840, 1841 год. Я дальше. И вдруг как зазвенит! Ну, я решил лопату побольше взять, глубоко. А забыл, что это Володя Лупан в 76-м тут к амбару своему тайком провода кинул, двужильные медные — красота. И кээк дерганёт меня и как начнет колбасить, думал, глаза выпрыгнут. Хорошо, племянник проснулся. Взял весло у забора и так шарахнул мне по плечу (он показал шишку-синяк, где наколка). Но спас. Короче, я по делу.
Бабушка ещё раз нюхнула книгу на сгибе и захлопнула с некоторым недоумением. Мол, нету способности у меня к этому нужному, необходимому занятию. И ладно.
— Раз уж оставил мне племянник этот прибор ещё на день, может, поищем ваш клад?
— Вот не поняла, — произнесла бабушка.
— А чего понимать. Все знают, что свекровь твоя, ну, что в этом дому жила, была мелкопоместная дворянка. И золотишка у нее было нехило. И говорят, что перед приходом сюда советской власти, она в подполе-то в вашем всё и зарыла.
— Чирьяк там, а не золото, — сказала бабушка. — Жаба живёт, чёрная, с башку твою непутевую.
Но Куторкин умел уговаривать.
— А хотя — валяй, — сказала бабушка. — Поди, предохранитель от приемника найдешь, на прошлой неделе упал в щёлку.
Притащили мы две переноски. Зажгли. Развесили лампочки на гвозди. Две лопаты кинули. Дед Куторкин бережно пронес в темное нутро прибор, который поджидал его в сенях. Наушники напялил. И сразу мероприятие потеряло всякую серьёзность. Дед в наушниках — этакий престарелый лысый чебурашка.
В подполе было прохладно и пахло ссохшейся землей. И ещё чем-то. Странным, потусторонним. В детстве ощущений этой потустронности больше. Может быть, потому, что не успел забыть ещё, отдалиться от того мира? Вдруг с другой стороны подпола что-то зашевелилось. Засквозил холодный ветерок, мёртвые корни трав, ещё торчавшие кое-где, шевельнулись. Я подумал: сколько же лет они не видели солнца? Там кашлянули. Я заорал, попятился, наступил на ногу деду, он тоже заорал, не снимая наушников. Осветили фонариком, там стояла кадушкоподобная Чёрная.
— Клад ищете? — не обратив ни малейшего внимания на наш переполох, поставила на утоптанную землю, по которой ходили ноги ещё прапрадедов наших, стул с высокой спинкой рококо, плюхнулась на него.
— Я с вами.
Села нога на ногу, мужицкие пальцы сомкнув на колене.
— Копай!
Бабушка же, будто не веря в то, что мы можем там чего-то такое отыскать, уселась в доме, на пол, свесив ноги в шерстяных носках в творило. И так болтала ими.
За два с лишним часа работы мы нашли: велосипедную старинную фару, два замка амбарных, ещё кованных вручную, безмен, пудовую гирю, коробку заржавевших в комок пишущих перьев, длиннющие петли от сундука (тоже кованые), но не сам сундук, ну и по мелочи: три гильзы от СВД…
В одном из углов дед Куторкин обнаружил камни. Я выкапывал их лопатой. Камни были разного размера, но гладкие, будто над ними потрудилось море.
Вдруг как спохватится бабушка:
— Ах, ты ж. Это же китешка.
— Чё? — пробасила Чёрная.
— Помнишь, Дарью-то (так звали бабушкину свекровь, а мою прабабку), она всё камни носила. Её спрашивали: зачем? Слова, говорит, это, китешки. А словами этими можно и дом построить и от врага оборониться. Я ничё не поняла.
— А кто по национальности-то она была? — спросил дед Куторкин.
— А кто ж её знает, — вещала бабушка сверху. — Когда помирала, всё бубнила: чудь, чудь. Я себе думала: чудила ты, а не чудь, сколько крови из меня попила. А она ж перед большевиками хотела в Беликов овраг уйти, к озеру. Вырыть там, на берегу, себе землянку такую, как будто нору лисью, под холмом, подпорки из беревен установить. А как враги придут, убрать подпорки и аля-улю. Но Василий, дед твой, не пустил. Зверская была старообрядка, камни палкой проверяла, которые ей привозили. Хрясь — если расшибёт, то тому, кто привёз, по горбу этой палкой. И твердила все: китешка, китешка.
— Может, Китеж? Ну, который вроде под воду ушёл, а на самом деле, люди древние те, как и свекровь твоя, подпорочки в землянке (они тоже специально их перед смертью или перед приходом врага строили) у озера топориком хрясь, — сдвинув один громоздкий наушник с уха, предположил дед. Из оттопыренного этого наушника грянула музыка, дед кинул их о землю испуганно, как черную жабу, попадись она случайно ему в ладони. Голос из наушников пел:
Нам уже не нужны глаза твои,
Нам уже не нужны глаза твои,
Побывали уже в глазах твоих,
И всё, что нам нужно, взяли.
— Йех ты, железяку цепанул, фонит как, — дивился Куторкин. — Будто антенна работает.
Мы помолчали. А Чёрная, слывущая по утверждениям механизаторов из соседней деревни ведьмой, ибо в лунные ночи летает над полями и лесами в колесе от трактора «Беларусь», ничего не сказала. Только на пальцы свои дохнула: «Ха-а-а-а».
Чем пахнет космос
В праздники деревенские бабки по очереди топили баню. Соломенная, похожая на мокрую курицу, она кособоко тулилась по ту сторону озера. А сразу за ней и крапивой начиналась кочковатая степь да заливные луга.
И вот пока мы таскали воду, выливали в чаны — там, за старым срубом с осыпавшейся из пазов глиной, не умолкали чибисы. Бестолковые, хохлатые птицы, родившиеся, кажется, с единственным вопросом к существу человеческому.
— Чьи вы? Чьи вы? — пищали они, с таким императивом, надсадой и ноткой тоски, будто и правда знать это им было позарез необходимо и интересно. Любой ответ — шуточный или серьезный был, конечно, неправильный. И они продолжали, не сбавляя.
А мы весело расплескивали из ведер в кеды небо. Гадали по дыму, какой к сумеркам будет клев.
Старухи мылись. Затем бабушка с тяжелой одышкой, в ночнушке до пола, купала нас. Воздух в предбаннике измерялся в промилях, а солома под ногами казалась масляной.
И уже после в чьей-нибудь избе начиналась гульба.
Дед Куторкин по обыкновенью чудил. Старухи вторили ему. Миха дрых, а я на грани какой-то зыбучей реальности слушал разговоры. И что-то тихо щекотало от голосов внутри головы, в темени. Словно там, под черепной моей коробкой, ходил, терся о косяки мыслей кот, выписывал восьмерки, толкал лбом в бесконечность и приятными мурашками трещал, щурился.
После яств и самогона, они играли в карты, вспоминали, спорили. И если потом шли на воздух, то тем все и заканчивалось. А если поддавали еще малость, то переходили в стадию песен, а потом по традиции плача. Дед не любил этого, отчаливал.
Конечно, в детстве мир настолько же преувеличенно прекрасен, насколько и трагичен. Все на пределе. Но когда за плач брались бабки, у каждой из которых такие неподъемные узлы горестей и печалей на палочке, перекинутой через плечо, то вообще была полная уверенность, что все скоро кончится. Что будущего нет и мы никому не нужны.
«Ничьи мы»!
Обычно в этот момент я рыдал, а Миха начинал гнусно портить воздух и утверждал потом, засранец, что он это вовсе не специально.
Или в кухне случайно брал с полки самую нижнюю тарелку из стопки. Видимо, он тоже не выносил ни песен, ни плача. Нужен был какой-то диссонанс.
А однажды в такой пир нас дома не было, мы туда из леса возвращались. Сквозь распахнутые рамы элегично выводила Марина Журавлева «Облаками белыми, белыми».
Потом включили ламбаду… Имелась у нас на магнитной пленке такая вот роскошь. Бабушка очень даже прилично могла исполнить это латино. Дверь в дощатый погреб у соседского дома была незаперта. Мы заглянули. От стрехи в темень уходила ужом веревка, покачивалась. Когда глаза привыкли, мы узрели бабу Полю.
Она повесилась.
Миха был расторопнее, схватил ржавое лезвие косы, торчащей под венцом погреба, рубанул по витому. Бабка свалилась.
Прибежали старухи, вынули ее и как это ни странно, она выжила. Баба Поля сидела на траве возле дома в одном галоше, совершенно чумная, раскачивающаяся еще в ритм веревке.
— На губах прям горечь, как угля наелась, — сипло почти шепотом говорила она.
Позже она поведает, как летела уже куда-то, как скорость была такая, что она от ужаса прикусила язык.
— Эхе-хе, царица небесная, — выдохнула бабушка. Только она могла с такой интонацией сказать эти простые слова, что в них, произнесенных, умещалась целая книга под названием «Исход». И весь человек — земной и небесный.
Бабка Поля — тщедушная, сгорбленная, сухая жила в соседнем доме с бабкой Нюрой, которой приписывали колдовские навыки, и у которой была лошадь по кличке Аня, вернись.
Анна Михайловна была властная, могучая, крутая. Бабка Поля — временами занудная, тихая и вечно в работе.
Иной раз смотришь в поле — стог сена вроде бы сам по себе идет. А нет. Это бабка Поля его на спине волочет. А зачем? А накосила. Сгодится, чай.
Ей никогда не нравились наши с Михой прыжки с крыши амбара, на фургон-каблучок «Москвич», который стоял без колес и служил нашему Шарику довольно просторной конуркой. Мы шумели железом. Не нравилось, как мы в навозной куче запалили как-то костер, и из гудрона в обычном ведре с добавлением козьего молока пытались состряпать настоящую жвачку. Она ворчала на наших родителей:
— Выдриснут одного-двоих (имелись в виду дети) они потом и вырастают нахалами.
А весь тот день она ходила такая нездешняя, светлая.
Нам была тогда притягательна смерть, и мы хотели расспросить ее подробней о полете в петле, но не решались.
А вечером с дедом Куторкиным мы катались на свинье. Ну, пытались получить родео.
Жирная Глаша с висячим подбородком так взбрыкивала и когда мы летели прочь, убегала за амбар. Оттуда высовывалась, смотрела на нас ничего не понимающими глазками партийного функционера. Будто спрашивала:
— Чего вам, гадам, надо-то. Объясните, я поднатужусь, сделаю.
Мы загнали ее, пылающую, к деду во двор.
Шел август, даже не шел, а рушился. Звездами в полынь.
Мы сидели на скамейке перед домом и считали их, не успевая загадать ничего путного.
— А я в воспоминаниях Армстронга читал, — вспорол тишину дед, и опять сделал вертикальным козырек от картуза, — у наших космонавтов тоже. Что углем там пахнет, сваркой и железной дорогой.
Тихо, неспешно, вразвалочку шествовали друг за дружкой две медведицы — большая и поменьше. Чибис пролетел. Но ничего у нас так и не спросил.
