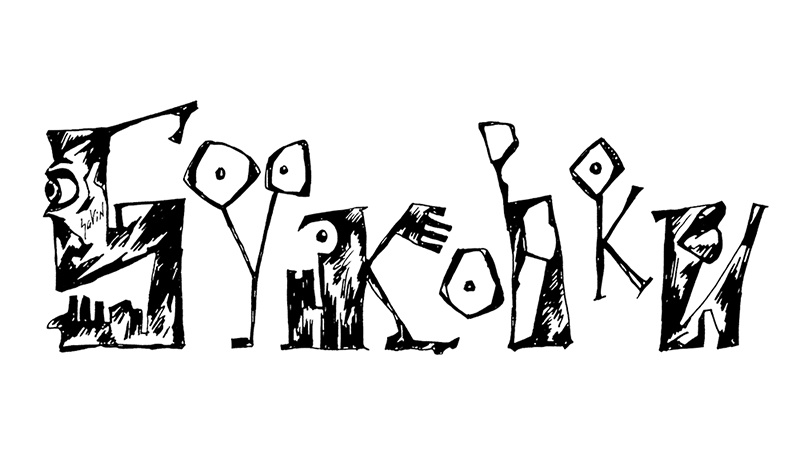
Ты становишься женщиной, бесконечно взрослой, и находится кто-то, кто тебе навьюжит – нашелестит эвром на сон: «Спокушки моей девочке на подушечку».
В реальной жизни – это ничто, просто мужчина, просто Дед Мороз, просто Сказочник, просто мудрый, умеющий правильно сказать женщине. Но ты все никак не вырастешь, как ни силишься. И от отчаяния не быть услышанной во взрослой жизни – ломаешь все и крушишь вокруг, беспомощная абсолютно без буковок. Потому что можешь жить только буковками: написать, стереть, крикнуть, заплакать, объяснить, подумать, принять решение, сделать открытие, обнять – и всё буковками, одними буковками.
Но не все их читают. Мама тебе кричит с досадой на прошлое: «Ты, как твоя бабка, все пишешь!» А ты, действительно, выдрессирована бабушкой буковками чувствовать, текстами узнавать мир… И «Спокушки моей девочке на подушечку» становится для тебя сильнее, чем тысяча непридуманных страстей, в которые ты тысячу раз успела рухнуть, так и не прочувствовав жизни, потому что самое сильное в жизни – это как звучат буковки: «Спокушки моей девочке на подушечку»…
Буковки начинаются с колыбельных. Для бабули. Я пытаюсь написать слово «бабушка», но у меня не получается, а звать близких именами у нас в семье было не принято, увы, хотя имя Вера, так звали мою бабулю, мне очень нравится: оно рифленое, красивое, щекочущее дерзостью, как обнаженная спина Лили Брик, не идеальная, но безумно чувственная. Для Веры я была обретенным смыслом жизни, нерожденной дочкой, объектом применения также не реализованных в настоящей жизни педагогических, творческих, любовных пылов.
Вера обрела меня и отпустила юных родителей учиться в институтах. И орущую, нервную, худенькую – прижимала к себе сухими руками, подложив под локоть подушку, качала, качала и пела свою жизнь, свои буковки. Колыбельные начинались по нарастающей. Вначале шла элементарная, для раскачки: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю». Интересным в этой колыбельной был только выдуманный сюжет, состоящий из длительного перечисления всех колен, которые прибегут спасать меня от волка, который схватил за бочок и повесил на сучок.
Так в «баюшки-баю» приоткрывалась родословная, которая в реальной жизни тщательно запутывалась Верой, вдохновенно соединявшей в своих повседневных рассказах фрейлин императриц с революционерами, повешенными за покушение на царя.
Потом шла «Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя». Это было что-то коричневое, со светящимся окошком, лачужное, оторванное от мира под сугробами и невероятно прекрасное. Такое прекрасное, что заснуть от «Бури мглою» было невозможно. Надо было прочувствовать все до самого конца, как «синица тихо за морем жила», а «девица за водой поутру шла».
Пережив пушкинский шквал, Вера переходила к Лермонтову: «Богатырь ты будешь с виду и казак душой». Это уже был этап на пороге к засыпанию. Вера пропускала про «злого чечена», который «ползет на берег» и «точит свой кинжал», и самозабвенно горевала по любимому, который уехал, но обещал вернуться. Я понимала, что это про Любовь, про великую Любовь, и уяснила для себя навсегда, что Любовь получается так и к этому женщине всегда нужно быть готовой: «Провожать тебя я выйду – ты махнешь рукой».
Лермонтов был кульминацией. Дальше шли уже какие-то неинтересные и несобытийные «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни» и «Спят медведи и слоны, Спят и дяди, тети…». И я засыпала. Мне перестали на ночь исполнять колыбельный репертуар, наверное, где-то в 1 классе, когда все силы Веры оказались сосредоточены на моей учебе. Вот тогда у нее завелись страшные тоненькие школьные блекло-зеленые тетрадки, в которых она корявым мелким почерком сочиняла для меня тренировочные «диктантики». Их было несметное количество.
Мама уехала в Японию. Я продолжала жить у бабули с дедулей. День начинался гимном. Я его до сих пор помню наизусть: «Союз нерушимый республик свободных». Испытываю смешанные чувства. Мне гимн нравится. С другой стороны, он – начало тренировок и движения к успеху, который как Голгофа. Надо ли детям испытывать это постоянное чувство тревоги из-за школы?..
Меня вели в 1-й класс зимой в старой цигейковой шубе, заматывая сверху пуховым платком и вставляя в пол-лица носовой платок, чтобы закрыть нос и рот. Сопротивляться было бесполезно. Я была в полной власти. Я заболела ветрянкой в 25 лет. Была вся измазана зеленкой и единственный раз за всю свою работу в университете ушла на больничный. Позвонила бабуле, чтобы спросить, какими еще инфекционными болезнями не болела в детстве. И услышала гордый ответ: «Деточка, я тебя уберегла от всех инфекционных болезней!»
Поэтому все детство проходила задраенная пуховым и носовым платками. Только однажды, от отчаяния, несчастный «луддит», прогрызла большую дыру в этом полонном носовом платке. Съела свой плен. Я помню, как бабуля развернула платок и разглядывала из-под возмущенно опущенного орлиного носа эту зияющую «пещеру братьев Греве». Дальше мы выходили во двор, прогуливались за ручку между жидкими хрущевскими посадками деревьев и решали в уме задачки. Это была жалкая прогулка, такая же жалкая, как растительность Петербурга в описании Бенуа.
Потом меня начинали тренировать. Бабуля доставала зеленые тетрадки, исчирканные в дневных вдохновениях, и начинала диктовать. Я писала и писала. Писала и писала. Потом шли уроки. В первом классе были тетради по печатанию. Каждая работа отделялась от другой бордюрчиком в две клетки, который нужно было раскрасить цветными карандашами, придумав орнамент. Дедуля, художник, имел свои черновые тетрадки, в которых вдумчиво для каждой работы изобретал орнамент: закаты над городскими крышами, греческие завитки, волны, горы, лавровые венки…
Уже тревожно, как гимн по утрам, в телевизоре гудели позывные программы «Время», нарастали, мучили, терзали. А дедуля крошил острым ножиком цветной карандаш, привязывал ваточку к его другому концу, и мы бесконечно растушевывали фон. И еще он придумал из рентгеновской пленки сделать такую помощь для стирания ошибок и помарок. Прорезал мельчайшие дырочки разных геометрических форм. Накладывалась эта форма на тетрадь с помарками. И мы пробовали стирать, чтобы лишнего не задеть и не размазать. Если стерка не брала – доставалась половинка бритвочки. Если образовывалась дырка – приходилось переписывать тетрадку. Я так ждала маму из Японии! Я ненавидела буковки!..
Доучившись до 9 класса, я поняла, что мальчиков можно в себя влюблять по-разному. У одних девочек получается одно, у других – другое, я могу буковками! Я могу сочинить любовь, мир, драму, эпилог, сюжет, чувства – письменно. Зацепить буковками. Был декабрь. И была химия. Всем хотелось снега. Просто белого, чистого снега и Нового года. Это и было началом романа. Я написала на клочке тетрадки: «И выпал белый снег» – и передала мальчику из другого класса, с которым наш соединили, «ашек» и «бэшек».
Это было исключительно верное попадание. Мальчик был необычный, глубокий, невероятно интересный, трепетный, литературный, исторический – как раз из тех, которые не нравятся девочкам в обычной жизни. И у нас завязался роман в письмах. Мне пришел ответ о том, что снег мешает отступать белой армии (а все происходило в советской школе в эпицентре развитого социализма). Что он, этот мальчик, – белый офицер, который вот сейчас (во время химии), в окопном рву, пишет письмо своей Даме (которая я, которая на химии), сидит в кабаре «Казбек» и слушает Вертинского: «Мадам, уже падают листья…»…
Пачка. У меня до сих пор хранится пачка этих писем отступающего с боями белого офицера. За весь 9 класс. Чуть только роман вышел из школьных двойных листочков в клеточку – буковки исчезли, – мне все стало неинтересно. И я получила последнее письмо с эпилогом: «Мне теперь, возможно, наплевать / На любовь, на жизнь и на морали. / Я тебя, наверно, сильно утомил, / Что ж прости, до гроба твой – Виталий»…
Так все и получилось потом в жизни, как в этом последнем школьном письме. Но сумасшедшей талой весной, капельной весной, когда «белый офицер» еще не разобрался в моей неспособности жить вне буковок, он успел меня привести в Школу молодого историка в госуниверситет, шепнув перед входом в него, что мои волосы пахнут медом и ладаном…
И я осталась в этом университете с тех пор на всю жизнь. Жить среди буковок. Это было верное попадание.
***
Я – ведомая, абсолютно ведомая. Каждый раз, когда готовится новый номер газеты «Культура», хочу написать про историю мещанства Самары. Потом начинаю клянчить у любимого редактора направление, идею, о чем лучше написать. Издатель трубит в карабасовскую бороду, что это бесполезное занятие, потому что, что мне ни скажи – будет опять «автомат Калашникова». Но вчера мимолетно, в ответ на мою увлеченность его портретом, заметил: «Там вообще-то, ниже портрета, есть еще и буковки!» И вот сегодня, сев писать статью про мещанство Самары, я написала рассказ про «Буковки».
Зоя КОБОЗЕВА
Доктор исторических наук, профессор Самарского университета.
Опубликовано в «Свежей газете. Культуре», №№ 1–2 (109–110), 2017, Январь
